горизонт событий. музыка, редкости, раритеты.
ценное из блогов и других источников
| главная » статьи » Русский Мiр |
| История, рассказанная минимум 64 раза. Все события, описанные здесь, реальны настолько, насколько может быть правдой ставшая застольной история, рассказанная от первого лица человеком 82 лет о времени, проведенном им в немецком плену с 1943 по 1945 год. инсайд. Взяли мы деревню в Белоруссии около Рогачева. Бой был не очень уж такой солидный. Обычный бой под вечер. 21 ноября 1943 года, часов 6–7. Выбили мы немцев из деревни, а меня ранило в руку – осколок попал. Я командиру взвода говорю – тут меня ранило немного – что делать? Он говорит: — Сегодня оставайся здесь. Ищи дом потеплее и ложись там спать. А наутро отправим в медсанбат. На фронте такая особенность: ты здесь никогда не был, места не знаешь, деревни не знаешь. Компаса и того нету, а карты тем более. Поэтому далеко отходить, особенно в темноте, нельзя. Я пошёл в деревню, нашел там хату, лег на кровать и уснул. Спать я силен – стоит лечь только и все. Часа в три–четыре ночи просыпаюсь от чего–то. Как в бок шилом ткнули – поднимаю голову – что–то тихо. Сунулся в двери, а там три немца: «руки вверх». Вот и вся история. Они, оказалось, ночью собрались и выбили наших из деревни. Ко мне один подошел осторожно, сдернул с меня автомат, распахнул бушлат, красноармейскую книжку достал, а как увидел медаль у меня на груди – рассердился и прямо с мясом ее с меня сорвал. Тут какие–то офицеры посолиднее подошли. Подъехал длинный автомобиль — «Опель–капитан». Меня в эту машину затолкали и отвезли в штаб. Там в кладовке закрыли, а часов в девять утра выпускают. Вижу такой солидный дед сидит и молодой немец, который стал меня по–русски допрашивать: — Какая дивизия, батальон, рота? Я говорю: — А чего вы меня спрашиваете? Красноармейская книжка у вас. Дед ему говорит по–немецки, а он переводит: — Имя командира полка, командира дивизии? — Я, — говорю, — не то что имя командиров полка и дивизии не знаю, имя и фамилию комбата даже не помню. Знаю то, что командир батальона капитан по званию, знаю, что Николай зовут, а фамилию не помню. Этот дед махнул рукой – «хватит». Меня обратно отвели и снова в кладовке заперли. Через часа 2 открывают, выводят на улицу к грузовой машине. Там человек 10–15 русских уже сидят. Привезли в лагерь. В Бобруйск. А через неделю, всех эвакуировали. Погрузили в вагоны и повезли в Германию. Наверное, где–то в восточной Германии выгрузили. Там был распределительный лагерь – шталаг. Лагерь огромный и очень строгий. У меня вот это ранение в руку уже начало загнивать (медсанбата не было, я его сам бинтовал, но и воняло оно на два метра вокруг). Гноилось. А тут нас выстроили на осмотр и мы стоим в очереди на проверку. А декабрь, холодно, дождь идет. Думаю: ну его всего – пойду вдоль очереди к началу – тут можно до ночи прождать. Все стоят, а я мимо и – вперед. Шнырь, а тут эти овчарки… Одна бросилась на меня, а я ей руку раненую в нос, она рычит, но не кусает, отворачивается. Тут я к очереди назад только решил встать, меня между плеч – раз – дубинкой и показывают – налево. Всех направо, меня налево. И еще полдня простоял. Это была колонна евреев. До самого вечера в ней протолкался, захожу, круг очерчен. Я встал. – Сними штаны! Я снял штаны. – Показывай х..! Показываю. Они пожимают плечами: – Фамилия! Я говорю: – Кузьмичев. – Имя отца! – Александр. – Имя матери! – Агрипина. – Какой дурак тебя загнал сюда… Оказался я не еврей. И только к вечеру пришел в барак, в котором находились русские, французы, американцы, поляки. Их не уничтожали, как цыган и евреев, а отсылали работать. На следующий день нас сразу погнали в баню. Вообще немцы мыли нас очень часто – почти каждый день. Боялись заразы. Но кормить почти не кормили. Давали баланду утром и вечером. Варили отходы от офицерской кухни: свеклу с картофельными очистками и кидали эту баланду черпаком на раздаче просто в сторону нашей очереди, а твоя уже забота была это поймать. Через 10 дней погрузили нас в поезд и отправили в Западную Германию в Бохум. В самый промышленный центр. Когда нас привезли, лагерь был еще небольшой, человек пятьсот – мы были второй партией пленных, которых туда транспортировали. Тут, пока зарастало ранение, меня назначили заниматься у немцев уборкой. Порядок наводить – на завод не водили. А потом, числа 15 декабря повели на завод. Там я сначала работал на токарном станке – снаряды делал. Но не больно старался – брака было очень много. Меня отлупили и перевели помогать французу – я ему подкатывал бомбы, которые он обрабатывал. А потом еще на сверлильном станке работал. Вот в этот период, работая в ночную смену, я уже не терялся и в обеденный перерыв (часов около 12 ночи) уходил с территории завода. Там поле было большое, и я нашел на нем гурт сахарной свеклы. И ее подворовывал. Один раз за мной друг привязался – Саша. Хорошо, что я его тогда взял или плохо – бог его знает. Он заметил, что я во время обеда куда–то пропадаю и напросился со мной. Мы пошли. Набрали сахарной свеклы в рюкзаки – примерно по ведру. А когда шли обратно, нас обнаружила охрана, которая вокруг завода ходит. Двое. Начали кричать «стой–стой». Мы к забору побежали – там где дырки от бомбежек оставались, и я их хорошо все знал. Они постреляли по нам, но не попали. Мы заскочили в сам завод, спрашиваю друга: — А где твой вещмешок? — Скинул, — говорит, — когда бежал. Тяжело. Ну я свой рюкзак в железки запрятал, начали работать. Минут через двадцать подходит ко мне Саша и говорит: — Давай свеклу варить! — С ума сошел, — говорю, — они сейчас будут по заводу ходить и смотреть – кто свеклу ворует, а мы тут ее варим! Пусть лежит где лежит. — А где лежит? — Где надо, там и лежит. Пока говорили охрана и появилась – идут, налево–направо смотрят. Они так и рассчитывали, что сейчас тот, кто свеклу украл, будет ее варить. Прошли туда–сюда, никого не обнаружили. — Спасибо тебе, Мишка, — говорит мой соучастник, — давай на следующий день сварим. Но какой–то несчастливый этот заход у нас был. Со свеклой этой получился международный конфликт. К тому времени Италия уже капитулировала и Гитлер все итальянские войска, которые воевали на его стороне, превратил в военнопленных. Поэтому на заводе появилось много итальянцев. И когда я на следующий день оставил на буржуйке свеклу вариться, итальянцы котелок мой стащили. А котелок у меня огромный – литра на три. Если что попадется, так чтобы досталось побольше. Я его сам на заводе сделал. И мне сверху крановщица русская (она ко мне с симпатией относилась) кричит: — Михаил, ты что ищешь? — Котелок… — Вон его итальянцы стащили. Я на них кричала–кричала. Бесполезно. Иди забери пустой котелок – они его у сетки выставили. На отгрузке, где итальянцы работали, все было сеткой огорожено, там мой котелок и стоял. Я пошел, взял его, матом на итальянцев поругался. Ну а что тут сделаешь – они же тоже такие, как и мы – голодные. Хотя с нашими таких историй у меня не случалось. На этом заводе много было переселенцев с Украины, Белоруссии. Я с ними дружил, расспрашивал – как они по городу ходят (военнопленных–то из лагеря на завод и обратно под охраной водят). Они мне рассказали, что у них пропуска есть. Одеты они прилично – в обычных костюмах, только на воротниках написано «OST». Говорят: «В городе нас почти никогда не останавливают, строгости большой нет. Главное – на работе быть вовремя». Я их дальше расспрашивал – какой транспорт в городе – что рядом? Выяснилось, что рядом город Леверкузен – туда ходит трамвай из Бохума, а дальше к французской границе– Эссен, Дортмунд и там уже второй фронт американцы открыли. Они понимали зачем мне надо это так подробно знать и предупреждали: «В твоей одежде арестантской тебя сразу возьмут. Тебе нужна гражданская одежда». Я это учел. В обеденный перерыв, когда всех загнали в бомбоубежище, спрятался в железках. Все сидели внутри асбестовых труб, по которым проходит связь и канализация – это такое наше было бомбоубежище; немцы сидели в другом, а я взял лом и сломал шкафчик с одеждой. Думал немецкий, а оказалось наш – на воротнике написано «OST». Костюмчик такой, брюки, помню, хорошие очень оказались – зеленые полувоенные. В карманах несколько марок и хлебные карточки. Припрятал все это. Примерно к концу осени 44 года собрался. Спрашиваю Сашу – уйдем вдвоем? Он говорит: «Да ну! Еще поймают – расстреляют». «Ну как хочешь, я ухожу один». План я составил, основываясь на информации от вольных – они сказали, чтоб я сильно не боялся в городе – останавливать меня не будут, садился в трамвай и ехал на запад к французской границе. Я переоделся и вышел за заводскую ограду. Там за свекольным полем был разбомбленный домик. Я туда в подвал залез и просидел до утра. Вышел из подвала часов в восемь и пошел. Думаю – сейчас в первом же магазине возьму хлеба. Есть хотел. Подхожу к магазину, тяну дверь, а с другой стороны ее открывают двое полицейских, которые меня знают. Я еще велосипеды у магазина заметил. Они всю ночь меня искали. Арестовали сразу и отвели обратно на завод. А там этот комендант как меня увидел – обрадовался! Ему ж отвечать за мою пропажу. За шею меня схватил и – душить. Еще двое подключились. Всыпали как следует. Дубинкой били – может, конечно, и не сильно. Они меня, почему–то, немного уважали. Но пару раз хорошо зацепило. Звонят по телефону в лагерь: поймали. Там говорят – давайте его сюда. Привели, затолкали в карцер. Вечером, когда всех на проверку выстроили, меня перед строем провели, говорят: он совершил побег и будет расстрелян. И обратно в карцер. Позже наш переводчик Виктор принес мне немного хлеба и сказал, чтобы я не боялся – что не расстреляют меня. Он и после мне хлеба подкидывал — в карцере только воду давали. Отсидел я три недели и снова на завод. Там меня уже свои чуть не убили. Стою у станка идет человек восемь с железными прутьями: — Откуда, — спрашивают, — на тебе штаны эти? Оказалось – хозяин штанов их на мне заметил. И сразу бить. Тут меня снова наша крановщица спасла – кричит: — Не трогайте его – он в них из лагеря убегал! Они остановились, говорят: — А это тот самый… Развернулись и ушли. Поняли, что не для того, чтобы щеголять я их утащил, а что для дела. Даже штаны не отобрали. Второй раз я бежал, только когда американцы подходили к Бохуму. К зиме 1945 нас уже месяца 2–3 на работу не водили, потому что не было уже той работы – разбомблено было все. Только иногда на уборку улиц выводили и то потом перестали. А, помню, в марте уже меня остановил комендант, который на заводе за нас отвечал – он знал меня по имени. Хоть и лупил иногда, но разговаривал со мной часто. Говорит: — Слушай, Михаил, как ты думаешь – русские расстреляют мою супругу и детей? — Почему, — говорю, — расстреляют? — Да я отправил семью в Кенигсберг, надеясь, что его не скоро возьмут, а тут… — Что тут? — Только не говори никому, что я тебе сказал. Кенигсберг взяли русские. Так как ты думаешь – расстреляют? Я же член национал–социалистической партии. — Да кому они нужны, — успокаиваю его, — супруга у тебя немолодая уже, а дети еще маленькие. Ничего с ними не будет. — Ты так думаешь? — Уверен. Они нас вообще считали дикими – чуть ли не медведями. Поэтому волновался комендант – думал русские всех убивают. Зато я узнал и ребятам рассказал, что наши уже Восточную Пруссию взяли. К апрелю бои уже велись так близко от нашего лагеря, что мы уже слышали не только артиллерию, но и пулеметные очереди. Однажды ночью в три часа подняли нас – а лагерь к тому времени разросся – три тысячи человек уже в нем было. Вот вывели всех и нам наш переводчик – Виктор говорит: — Ребята, вы все военные и отлично понимаете, что завтра–послезавтра здесь будут американцы. Лагерь эвакуируется. Те, кто не может идти: больные, ослабленные (а нас уже месяца два–три не кормили – так траву ели и все) остаются, а те, кто может двигаться, будут эвакуированы. Меня мой друг Петя, (его место на нарах было на втором уровне над моим) толкает и говорит: — Остаемся, Мишка? Я шепчу: — Ты что – вообще? Колючая проволока под напряжением две тысячи вольт, через каждые пятьдесят метров – вышка, на вышках – крупнокалиберные пулеметы. И ты здесь остаешься? Ты веришь им? Я им на миллиметр не верю. А там, когда за проволоку выведут – там овраг, там яма – я знаю, куда надо прятаться, чтобы не попасть под пулю. И мы пошли. Три дня нас охраняли страшно – всадники, волкодавы огромные, строго по счету заводили на ночлег, по счету с утра ставили в колонну по пять человек. На четвертый день смотрю – в конвое одни деды остались – по 50–60 лет. Идут, винтовки на плечи повесили, собак нет, в сарай заведут – не считают, выводят – не считают. Думаю: «настал твой час, Михаил». Ну и как уже говорил: залез на чердаке под солому минут двадцать посидел после того как все ушли; слышу – затихло все. Я откопался и вышел. На мне была французская шинель – ее мне полицейские в нашем лагере дали – на спине, как у всех русских написано «SU». Полицейские еще мне посоветовали никому не показывать робу, которая под шинелью, потому что на робе никаких опознавательных знаков не было, и такая вещь могла пригодиться. Ну, я шинель скинул и остался в темно–синей робе. Пилотку я тоже сразу выбросил. И стал такой как и все. Иду, смотрю – человек у дома навоз кидает. На воротнике написано «OST». Я тогда думал, что это только русским писали. Подхожу, спрашиваю: — Русский? — Найн, найн, — говорит, — их бин поляк. — Ну, — говорю, — раз ты поляк, не найдется ли у тебя какой одежды? (я же шинель сбросил – холодно в апреле еще). Ну и поесть. Уходит. Выносит из дома демисезонное пальто – я его на солнце развернул, а оно как бредень все светится от дырок. Ну ладно – хоть что–то. И два кусочка хлеба – таких – со спичечный коробок. Я их тут же проглотил, поблагодарил и ушел. Пошел к лесу. Захожу в лес и первым делом вот что сделал: собрал еловых веток и сложил из них шалаш, как чукчи делают – я же сибиряк – знаю как такой чум строить. Переночевал там, с утра вышел, иду по деревне. Смотрю человек – на спине написано «SU». Подхожу. Говорю: — Ты военнопленный? — Военнопленный. — Жить есть где? — Нет. — Ну пойдем – я тебя выручу у меня тут дом. — Как дом? — Увидишь. И привел его в свой шалаш. (Потом, когда он неожиданно исчез, я понял, что вообще ничего о нем не знаю – даже имени. Он ничего не сказал. Да я и не спрашивал.) В тот же день пошел я искать еду. Встретил у первого дома в деревне двух немок. Таких пожилых. Говорю по–немецки: — Дайте, пожалуйста, хлеба или картошки – что можете. Я с лагеря с Бохума. И со мной еще один русский живет. Они выносят. Одна говорит: – Вот у нас тут пять картошек на двоих – две мы тебе даем, три себе оставляем. У нее и у меня было по сыну. Они погибли в России. Это тебе и твоему другу за них. Вернулся в шалаш, съели мы эти картошки и спать легли. На следующее утро опять пошел в деревню на промысел. Иду, и такой запах вдруг, чуть с ног не сбил. Суп – гороховый с мясом. Думаю – дай зайду на запах. Захожу – а там сидят двое, на форме большими буквами: «РОА» — Русская освободительная армия. Власовцы! Я говорю: — Ребята, вы же тоже русские, неужели вы мне в мой котелок не нальете вашего супу, которым так на всю деревню пахнет? — А откуда взялось это явление? – тот, кто в чугуне мешал, спрашивает. — Оттуда, откуда и ты. Ты откуда? — Я, — говорит, — из Новосибирска. — А я из Красноярского края. Ты власовец, а я военнопленный. Неужели супу не нальешь? — Давай сюда. Берет мой котелок трехлитровый и зачерпывает мне этого супа и сверху и снизу – налил полный. — Подожди еще, — говорит. Отрезает полбуханки хлеба: — На! Но, смотри – больше никогда не суйся. А то ты так и к немцам додумаешься зайти. И прямо не смей ходить – выйдешь на этих предателей РОАвцев (это он о своих так говорит) – сразу расстреляют. Знаешь что у меня сейчас на душе? Я не знаю что мне делать… Твое дело понятное – ты пленный. А я – РОА, власовец – мне обратно ходу уже точно нет. Да оно и тебе тоже. Я котелок забрал и пошел. Вернулся в шалаш, а друга моего уже нет. Больше никогда его и не видел. Супа того хватило на целый следующий день. Я решил, что это будет такой выходной, и никуда не отлучался из своего жилища. Думал, что тоже вполне мог бы оказаться власовцем. Можно даже сказать, удивительно, что не оказался. Я был недоволен советской властью – мой отец был репрессирован в тридцатом году. Я был в плену… Молодой был – 19 лет, потом – 20, потом 21. Но ума хватило понять, что это разные вещи… Во власовцы шли, потому что каждому жить хотелось. Жить и хорошо есть. Нет там никакой политики, никакого патриотизма – ничего. Просто – жить и есть. Хотя. Не знаю как это назвать, эти же люди… в Бохуме в 43 году нас агитировали власовцы. Они приезжали и раскладывали на столе буханки хлеба, сигареты всякие немецкие и уговаривали – ребята – давайте пойдем в РОА – Русскую Освободительную Армию – там вы будете есть хлеб, курить сигареты и даже есть шоколадные конфеты. И сидят голодные люди. И эти люди говорят им: идите вы нах... На следующее утро выхожу на дорогу, а по ней танки… насколько видно, автомобили. Я вижу, что не немецкие. Американцы. И колонна освобожденных ими военнопленных идет огромная. У меня махорка была (у власовцев выпросил). Спичек не было, то есть были, но я их берег. Прошу американца – дай прикурить. Он попытался мне эту самокрутку поджечь, а она не горит – там бревна в этой махорке одни оказались. Он эту самокрутку у меня изо рта выдернул и дал целую пачку с верблюдом. А военнопленные уже за деревню взялись – хватают гусей, кур, головы им крутят. Мне говорят — лезь скорей, не стой! Я полез. Зашел в чей–то двор и схватил самого крупного гуся. Скрутил ему голову и стал варить. Варил целый день. Он–то самый большой был но и самый старый. Получился жесткий и соленый. Очень тяжело было есть. К вечеру вернулся с этим гусем в лагерь, который поставили американцы. Там французы, итальянцы, наши. Русские собрались в отдельном сарайчике. За стенкой итальянцы поют, а наши – слышу – матерят кого–то. Свешиваю голову – я там на таком чердачке устроился – смотрю дед пытается место внизу найти, а его гонят отовсюду. Я ему кричу – лезь сюда – тут у меня просторно. За руку его к себе затащил. Говорю: — Есть хочешь? А он даже разозлился: — А ты чего дурацкие вопросы задаешь? Кто ж тут есть не хочет? — Вот у меня гусятина – никак не могу съесть. — О, давай! Он начал грызть гусятину эту. Жевал и ругался на то как я это блюдо приготовил. Назавтра он еще больше сердился, оказалось, что с непривычки его желудок пищу эту переваривать отказался. На следующий день тут же у американцев иду – слышу: «Михаил!» Останавливаюсь – двое полицейских из нашего немецкого лагеря и с ними хлеборезчик оттуда же. Николай его звали. Мы с ним дружили– он мне хлеба часто подбрасывал. По 150 грамм в сутки давали и плюс он немного. Они были очень удивлены. Спрашивают: откуда ты? Я говорю – Оттуда, откуда и вы. Они говорят: — Да мы понятно откуда – как ты здесь оказался? Ты же в колонне шёл. — Да шел. — Да ведь колонну… — Что колонну? Я ушёл из неё на третий день. Они друг на друга посмотрели и говорят — Да, это на него похоже. Про колонну они мне так ничего и не сказали. Зато я от них узнал – что стало с теми, кто остался в лагере – с лазаретом. Во время воздушной тревоги охранники их загнали в бомбоубежище, ворота снаружи заблокировали, а сами разбежались. Американцы, когда зашли в лагерь никого не нашли. Случайно спустя некоторое время обнаружили эти ворота. Открыли. К тому времени там примерно половина в живых осталась. После этого я их уже в этом лагере у американцев не видел – испугались, что я их выдам. Хотя я сразу им сказал – ребята, не бойтесь – я никому про вас ничего не скажу. Там стоило мне крикнуть: смотрите – это полицейские из моего лагеря, и их бы растерзали на месте. Поэтому у них два было выхода – или уйти, или меня убить. Но я, вроде не такой был противный, чтобы меня им хотелось убить, да и они ребята хорошие; поэтому просто ушли. Только спустя два года я узнал что тогда произошло: встретил одного уже здесь в России. Я служил в Кировобаде в летном училище после войны. И вот там один на меня смотрел, смотрел, а потом так: — Парень, где–то я тебя видел. Я говорю: — Где же ты меня мог видеть? Ты же в Енисейске не был в Красноярском крае? — Нет – не был, и никак не могу вспомнить – где я тебя видел. Тогда я ему задаю вопрос: — Ты в плену был? — А откуда ты узнал? — в Бохуме? — Точно – в Бохуме — Тогда вот где ты меня видел. Меня перед колонной водили. Немцы говорили — мы его расстреляем. — Точно! Я спрашиваю его: — Ты с колонной шёл? — Да – с колонной. — И что с ней потом стало? — Расстреляли, — говорит колонну, — а я остался живой. Водили нас водили, неделю, а потом говорят – вон туда идите – там американцы. Мы пошли, а они сзади стали в нас стрелять. Конечно не все стреляли, а самые ярые такие фашисты. От злости. Много людей побили. Не знаю почему раньше из этой колоны никто не убежал – это было проще простого, не надо и головы иметь. Американцы между тем уже сильно с нами намучались. Они вообще на той войне были высокопорядочными людьми. Когда нас согнали в американские лагеря, они вначале никакого воздействия на русских военнопленных не оказывали. Можно было делать что хочешь. И русские военнопленные стали грабить и убивать гражданских немцев. Потому что жрать хотелось и злоба страшная. И американцы поняли, что нужно их собирать в кучу и кормить. Стали кормить. Я такой жратвы никогда даже не видел. Американский паек. А русские все равно продолжают грабить. Выходят на дорогу – едет девка молодая на велосипеде, хватают, срывают часы, насилуют. Мне тоже говорят – какой ты олух – сейчас же можно нажиться на всю жизнь. Лезь в любой дом – бери, все, что тебе нравится. Я этого не делал, но однажды все–таки отказаться не смог. Нас жило четверо: двое грабили немок им было лет по 30, а один был коммерсант. Ведь в немецких лагерях был такой капитализм. Этот коммерсант, например, не курил и обменивал сигареты на хлеб, хлеб на картошку, картошку снова на хлеб, только больше. Из–за этого в лагере жил он довольно сытно и планировал продолжить свои занятия по возвращению в Советский Союз. Четвертый был я – самый молодой, только знакомился с жизнью. Грабить не ходил, меняться не умел. Но меня вши заели. И вот, когда все ушли на свои промыслы, я решил протрясти над костром одежду. Развел огонь, снял кальсоны, снял нижнюю рубаху и над пламенем ими вожу. За этим занятием меня застали вернувшиеся зачем–то мои сожители–грабители. Говорят: — Ты что – дурак? А ну пошли с нами. Я пошел. Они доводят меня до немецких домов. Открывают один, заводят внутрь, показывают на шкаф с одеждой. Хозяев в доме нет. Немцы почти все тогда уже разбежались из деревни от этих военнопленных. Открывает шифоньер, достает кальсоны: «Вот – смотри – как раз твой размер». Дает мне кальсоны и так по порядку: нижнюю рубаху, брюки – все мне из шкафа достает. Все вплоть до шляпы – надевает ее на меня: «О! – говорит, — теперь ты человек!» А все, что я со вшами снял, он собрал и вместо немецких вещей на вешалку повесил. Я посмотрел на себя в зеркало, пошел на кухню, взял нож и поля у шляпы обрезал. Получилась пилотка. Так мне было привычнее. Тут американцы начали понемногу всех желающих отправлять на русский берег Эльбы. А наши уже не очень хотели домой. Зашел такой разговор. Один из молодых, как я – лет 20 военнопленный бывший все ходил и агитировал: — Ребята! Нам нет хода в Россию. Всех нас в Сибирь загонят! Я ему говорю: — Замолчи! Я жил и родился в Сибири, и все одно туда попаду. Я только домой собираюсь. — Ты, — говорит, — Михаил, ё.нулся. — У меня сейчас одна забота, — отвечаю, — мне надо отцу как–то письмо отправить, что я живой. С сорок третьего года обо мне ничего. Что интересно – никто из американцев нас не агитировал ехать в Соединенные Штаты. Только свои. Как я потом услышал, уехало наших порядочно. А я в первый же эшелон с военнопленными, которых американцы отправляли на территорию, оккупированную русскими, попал. Ну, может быть, во второй. Мои знакомые грабители тоже со мной поехали. Они пришли к русским с багажом по пять чемоданов. Они их даже сами не могли донести, но американцы нас на машинах подвезли до левого берега Эльбы. Русские на правом берегу. Город Магдебург. Там таких с чемоданами много приезжало. Американцы очень бережно относились и к имуществу и к личной жизни этих людей. Многие там подруг себе нашли. Американцы такие пары считали семьями. Вечером нас привезли к Эльбе, мы переночевали прямо на берегу, а утром русские, чтобы перед американцами не ударить в грязь лицом, пригнали несколько Студебеккеров, чтобы репатриантов забрать. И когда мы сели в машину с нашим офицером и нас перевезли через Эльбу, тут вот что было. Выходит лейтенант и командует: «В две шеренги становись!» «Кто женился – разженицца! Женщинам два шага вперед – два шага вперед шагом марш». И отвели куда–то женщин. Так, кстати, и не знаю куда. А этот лейтенант ходит и по голенищу себя прутиком хлопает: «У кого есть оружие – огнестрельное, холодное – фотоаппараты, золото, серебро – сдать немедленно! Если после проверки у кого–то окажутся озвученные предметы, судить будет революционный трибунал. А в то время это означало только одно. Один только приговор – быстрый и экономный. Все сдали свои богатства. Тоже, кстати, не знаю – куда это потом делось. На следующее утро нас подняли в шесть утра, разбили на взводы, провели зарядку, покормили завтраком и стали с нами заниматься строевой подготовкой. А через день – марш бросок 50 километров. И все, кто был с пятью чемоданами, оставили себе по одному – как это тащить пешком? Выросла целая гора – мануфактура, сапоги, игрушки. Офицеры это все домой потом к себе отправляли. А я как был с вещмешком, так с ним и пошел. И мы дошли пешком до Берлина. В Берлине все проходили сито. Это такие беседы, где один человек решает все. Он допрашивая репатрианта делал вывод – враг это народа или не враг. Мне повезло. Меня уже после второго допроса допустили к службе в Советской Армии. Проскочил, несмотря на то, что военнопленный был, потому что путаница после войны была страшная. До сих пор многое, что там происходило никому не известно. Недавно в Москве на поклонной горе я нашел себя в списках погибших – 25 ноября 1943 года. Тот день, когда я попал в плен. Источник: http://leprosorium.livejournal.com/63855.html | |
| Просмотров: 986 | Метки: | Рейтинг: 0.0/0 | наверх |
| Метки: |
| Всего комментариев: 0 | |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
[ Регистрация | Вход ]
Некоторые статьи из «Чтива» на горизонте в случайном порядке.
|
|
|
|
Основные разделы.
Главная  Осколки Неба
Осколки Неба  Музыка кино
Музыка кино  Редкости
Редкости  СуперХоккей
СуперХоккей  Николай Парфенюк
Николай Парфенюк  Андрей Мисин
Андрей Мисин
Дореволюционная Россия в цвете Треки из нашей кинофантастики
Треки из нашей кинофантастики  Чтиво
Чтиво  Советское кино
Советское кино
Советская мультипликация Интернет
Интернет  Поиск & метки
Поиск & метки  Гостевая
Гостевая  Обратная связь
Обратная связь
 Один трек из коллекции
Один трек из коллекции
 Осколки Неба
Осколки Неба  Музыка кино
Музыка кино  Редкости
Редкости  СуперХоккей
СуперХоккей  Николай Парфенюк
Николай Парфенюк  Андрей Мисин
Андрей МисинДореволюционная Россия в цвете
 Треки из нашей кинофантастики
Треки из нашей кинофантастики  Чтиво
Чтиво  Советское кино
Советское киноСоветская мультипликация
 Интернет
Интернет  Поиск & метки
Поиск & метки  Гостевая
Гостевая  Обратная связь
Обратная связь Один трек из коллекции
Один трек из коллекции |
|---|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|
|
|---|
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|
... Во время тура с Yes сложилась комичная ситуация. Так как хедлайнерами на концерте выступали Yes, Tranquility было предоставлено право открывать концерты, а на десерт, естественно - Yes.
Но зрителям так нравилось выступление Tranquility, что они никак не хотели их отпускать со сцены, и кто у кого должен играть на разогреве, становилось не ясным. Тогда звукорежиссёр группы Yes, от концерта к концерту, стал потихоньку уменьшать громкость выступления Tranquility.
И к концу тура выступление группы могли слышать, разве что сами музыканты..
... собственная музыкальная судьба коллектива однако как-то не задалась, коллектив создал два шикарных альбома и канул, увы, в небытие ... >> послушать
| ||
|---|---|---|
|
|
|---|
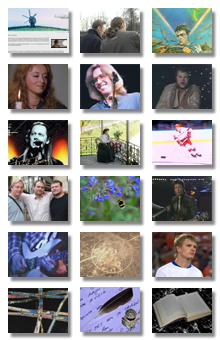
|
|
|---|
|
|---|
| Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |















 2025 |
2025 | 